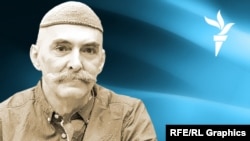“Почему наши проектировщики такие ненаблюдательные? Вот поучились бы у англичан. Знаешь, как они создают новые парки? Сначала все сплошь засевают травкой, не проектируя ни единой дорожки, а потом внимательно следят, где их протоптали. И только тогда начинают их мостить. А у нас все наоборот: нарисуют, где в голову придет, только не там, где удобно людям… ну сам же видишь…”
Мне было лет семь, и я с любопытством слушал. Это уже потом, все детальнее знакомясь с тем ужасом, что оставила по себе британская урбанистика аккурат в те самые 1960-е, когда я доверчиво внимал дедушкиному рассказу, я, как ни старался, так и не смог определить, откуда взялось у моего прародителя столь идеализированное представление о ней.
“Нонконформист”, “гигант постмодернизма”, “индивидуалист”, “оригинал”, “архитектор, никогда не бывший частью “клуба”, – каких только эпитетов ни прочли мы 28 сентября в некрологах великому автору иконического лондонского офиса МI6, сэру Теренсу Фарреллу. При этом в первую очередь Фаррелл был крупнейшим британским урбанистом полувека, значительную часть своей карьеры отдавшим если не исправлению (не всегда, увы, возможному), то по крайней мере купированию тех ошибок, что наделали его предшественники, в первые послевоенные декады сильно хаотизировавшие и обесцветившие облик многих городов Соединенного Королевства – и прежде всего столицы.
Сегодня Лондон трудно представим без циклопической пасти Embankment Place, заглатывающей (и исторгающей) гусеницы железнодорожных составов, без экзотических силуэтов небоскребов Alban Gate и предельно эстетизированных старых фабричных корпусов Chelsea Waterfront, – и, конечно же, без сложно организованной иерархии объемов штаб-квартиры МI6, напоминающей не то диковинный зиккурат, не то большой симфонический оркестр.
Но во времена молодости Фаррелла картина была иной. В столице на каждом шагу еще виднелись руины, и те лондонцы, которых война оставила без крова, часто с трудом выносили драматические перемены. Теперь многие из них нселяли многоэтажные блоки, где число квартир доходило до трехзначных, где больше не было уютных приватных садиков, где все жизненное пространство находилось на одном уровне, а соседи имелись не только слева и справа, но еще и (о, ужас!) по вертикали. И квартиры и сверху, и снизу были точь-в-точь такими же! Не менее трудно было свыкнуться с повсеместно насаждаемыми, но решительно чуждыми духу британского индивидуализма общественными кухнями-столовыми, прачечными и разного рода “рекреационными зонами”.
Действительно, концепция тотального зонирования городской среды (и, следовательно схематизация повседневной жизни горожан), на которой продолжали упорно настаивать адепты Афинской хартии и которую теперь пробовали внедрить на Островах, плохо сочеталась с британскими традициями. Впрочем, и на Континенте эти схемы не “ложились” на урбанистическую ткань старых городов, пусть даже изрядно траченую бомбардировками. В теории поборникам радикального модернизма проще было бы работать на полностью расчищенных площадках, – и, собственно, о подобном уже в середине 1920-х мечтал Ле Корбюзье, предложив городским властям Парижа план почти полной “зачистки” старейших районов Правого берега Сены для возведения “идеального города будущего” – серии однотипных блоков, расставленных на обширном озелененном пространстве. Столь арбитральный подход, возможно, прошел бы на ура полвека спустя в коммунистической Румынии, но в демократических государствах о подобном безумии, понятно, не могло быть и речи.
Теперь же военные разрушения дали некоторую надежду авторам нереализованных утопий. В пепелищах Ковентри, Роттердама, Варшавы и Гавра им виделся своего рода дар судьбы. На практике, однако, почти везде их амбициям противостоял несокрушимый институт частной собственности, и довольствоваться приходилось ограниченными “делянками” либо более обширными периферийными зонами. С максимальной полнотой доктрина “идеального города” была воплощена лишь в столице ПНР, где в угоду этому эксперименту всю приватную недвижимость конфисковали одним росчерком пера. В результате, невзирая на серьезные инфраструктурные улучшения и обилие новых зеленых пространств, Варшава надолго превратилась в самую монотонную и архитектурно маловыразительную метрополию континента.
Наиболее известные работы Фаррелла связаны с набережными
В свою очередь, генеральный план реконструкции и развития Большого Лондона, где налеты люфтваффе разрушили 1,2 млн домохозяйств, был разработан уже в 1944 году. Видный урбанист Лесли Патрик Аберкромби, удостоенный за этот план звания сэра, искусно удерживал баланс между личными симпатиями к “международному стилю” в духе Афинской хартии и той культурной матрицей, в которой был воспитан. Аберкромби не мог не понимать, насколько чужды коллективистские идеи решительному большинству его соотечественников – и оттого его план склонялся к разумному компромиссу, акцентировавшему важность новых малоэтажных микрорайонов и зеленых городов-спутников, куда должны быть расселены также обитатели переживших войну трущоб Ист-Энда; создание новых парковых зон, рассредоточение индустрии и транспортных потоков из центрального Лондона.
При этом для политиков первоочередной задачей было преодоление жилищного кризиса. Не только лейбористское правительство Эттли, но, и сменившие его тори всячески поощряли крупномасштабное муниципальное строительство именно в центре столицы, не сильно тревожась ни его эстетическим обликом, ни соразмерностью архитектурному окружению. Уже первый послевоенный жилищный комплекс, Churchill Gardens, несмотря на высокий уровень комфорта, оставлял впечатление вставной челюсти –хотя, как вскоре оказалось, был еще сравнительно тактичным к почтенным соседям по Вестминстеру. За несколько последовавших десятилетий центральный Лондон “украсился” огромным числом разного калибра имплантов утилитаристского хаузинга, избавиться от которых в обозримом будущем едва ли удастся – спасибо приватизационной программе правительства Тэтчер “Right to buy”. “Малогабаритки” в этих блоках, рассчитанных на максимум 60-70-летнюю эксплуатацию, давно перестали удовлетворять требованиям владельцев, зато обратились в источник их доходов – а равно и в заметный сегмент спекуляций на рынке столичной недвижимости.
Массовый масштаб сдачи внаем по “диким” рыночным ценам этих квартирок – в том числе поденно, покомнатно и даже покоечно – стал, возможно, самой наглядной иллюстрацией идейного краха концепции общедоступного “народного” жилья, в угоду которой его проектанты – как правило, носители левых взглядов – сознательно шли на бесчисленные эстетические жертвы. Уже в конце века, глядя на эти стремительно деградирующие блоки, иронией истории превращенные в объекты примитивной и беззастенчивой наживы, вряд ли кто-нибудь понимал, за что боролись авторы их проектов. Тогда же стало очевидно, что пригашение факта присутствия этой малопривлекательной продукции в исторической городской среде –единственное оптимальное на близкую перспективу решение, по крайней мере, для центральных районов столицы.
Попросту говоря, если уж не выходит снести, то хотя бы спрятать.
И тут неприязнь, питаемая “правоверными” радикальными модернистами к “красным линиям” квартальной застройки, оказалась очень кстати. В конце ХХ века с постепенным утверждением новой урбанистической парадигмы вернулась и популярность улицы в ее историческом европейском понимании. Теперь “красные линии” все чаще предпочитали застраивать, и “вольно пасущиеся” внутри кварталов унылые жилмассивы недавнего прошлого начали мало помалу исчезать из поля зрения или вытесняться на его периферию. Ригоризм зонирования городского пространства уступил акценту на его многообразие и гибкую полифункциональность. Изменилось и отношение к историческим постройкам рядовой ценности, которые все охотнее принялись вписывать в “пятна” новой застройки реконструируемых зон.
Несостоявшуюся “мировую революцию” в градостроительстве сменила более органичная мирная эволюция.
Выраженно эклектичный постмодернистский подход стал настоящим лекарством для исторических городов после серии брутальных разрывов их ткани в предыдущий период. И именно Терри Фаррелл и его команда сыграли одну из ключевых ролей в упорядочении того урбанистического хаоса, что стал лондонской очевидностью к концу семидесятых.
Реализация серии мастер-планов, разработанных в течение двадцати лет мастерской Фаррелла для зоны центрального Лондона, прилегающей к Юстон-роуд – от Мэрилебон-роуд до Кингс-кросс, – привела к заметному средовому “сплочению” этого исторического района, пережившего серьезные военные разрушения и последовавшую хаотизацию. Частью плана стали два превосходных офисных здания на Тритон-стрит (№№10 и 20) авторства Фаррелла – легкие до невесомости, элегантные и при подчеркнутой ультрасовременности и высотой, и линиями, и распределением масс, и пропорциями ощутимо наследующие представительной лондонской архитектуре позднеэдвардианского периода, образцов которой немало в самом близком соседстве.
Другой мастер-план, созданный для хорошо сохранившегося, но подзапущенного и перегруженного транспортом Блумсбери, существенно ограничил автодвижение в этом любимом межвоенной богемой лондонском квартале, создав обширные рекреационные зоны на его площадях и заодно увеличив число точек обзора многочисленных и часто контрастирующих архитектурных памятников разных эпох.
К тому времени Фаррелл уже был знаменит. В 1985 году за яркий ансамбль, исполненный по заказу телекомпании TV-am в лондонском Кэмдене, он получил влиятельную в архитектурной среде премию Civic Trust. Помимо серии спроектированных “с нуля” зданий, этот кластер включал некогда заброшенные, но регенерированные для новых студийных нужд индустриальные гаражи 1930-х годов.
Вовсе не к “идеальному городу”, но к Городу Для Всех следует стремиться
Терри Фаррелл был одним из первых, обративших публичное внимание на эстетические достоинства старой промышленной архитектуры. Долгие годы наследие первой индустриальной державы Старого света являло жалкое зрелище: заброшенные объекты ветшали, их часто разбирали на кирпич и металлолом, а самые крупные и вовсе взрывали. На том же генплане Аберкромби множество старых фабрик, мастерских, доков и складов заштрихованы как объекты “санации”, то есть безоговорочного сноса. Сегодня, на исходе третьего десятилетия не проходящей моды на “олд индастриэл”, подобная слепота вызывает искреннее изумление.
А в том же 1985-м мастерски перестроенная старая мебельная фабрика на Хэттон-стрит стала настоящей сенсацией. И заодно визитной карточкой мастерской Farrells, переехавшей в это еще недавно ожидавшее бесславной разборки здание.
До интеграции огромных викторианских фабричных корпусов в проект Chelsea Waterfront было уже рукой подать.
Наиболее известные работы Фаррелла связаны с набережными. Именно к водам Темзы обращена – и в них отражается – мизансцена корпусов штаб-квартиры МI6. А также очень эффектный мегакомлекс Embankment Place, объединивший внушительный конгломерат объектов разного назначения, как специально для него спроектированных, так и исторических. На фоне этих эпохальных построек, собравших изрядный урожай национальных и международных премий, камерные объемы Королевской регаты в Хэнли воспринимаются милой безделицей – впрочем, не менее драгоценной. Фаррелл любил обрамлять водные пространства – и не только в Лондоне, где его мастерская ремоделировала десятки километров береговых линий (титаническая, хоть и не каждому очевидная, работа!), но также и в Ньюкастле, Мэрлоу и других городах.
Отдельную группу образуют мастер-планы, созданные командой Фаррелла для азиатских мегаполисов – Гонконга, Пекина, Гуаньчжоу, Уханя, Шанхая, Сеула. Их отчетливо глобалистский пафос заметно контрастирует с более соразмерными человеку проектами для Британии, что легко объяснимо фундаментальным различием масштабов европейской и восточноазиатской урбанистической “единицы”.
Одиночные постройки Фаррелла, как правило, очень изобретательны, богаты контрастными фактурами, педантично проработаны в деталях и неизменно удачно вписаны в окружающую среду. Поддаваясь порой искушениям деконструктивизма и даже хай-тека, в целом творчество Фаррелла оставалось в главном постмодернистском русле, вернувшем большой архитектуре забытое пластическое многообразие – то в сложно простроенной субординации объемов и пространств, то, наоборот, в их намеренном противопоставлении. Как и другие крупные мастера постмодернизма, прежде всего Альдо Росси и Майкл Грейвс, Терри Фаррелл испытал заметное влияние наследия итальянского Новеченто, чей впечатляющий градостроительный опыт долгое время принципиально игнорировался модернистским мейнстримом ХХ века с его выраженно левым мировоззрением.
Мировоззрение Фаррелла было иным. Весьма демократического происхождения архитектор не был и близко поборником эгалитаризма. Но при этом считал, что подчеркнутая стратификация британского общества неизменно порождает взаимное отчуждение различных его групп, особенно заметное в метрополиях и разъедающее их изнутри. Не менее деструктивна и выраженная доминация какой-либо из них. Поэтому вовсе не к “идеальному городу”, скроенному по лекалам утопической доктрины, но к Городу Для Всех – многоликому, хорошо продуманному эстетически и логистически, гуманному и улыбчивому, – следует стремиться.
Улыбчивость архитектуры Фаррелла очень особого свойства. Нет в ней ни “звездной” самоуверенности, ни иронии, часто присущей (и еще чаще приписываемой) постмодернизму. Это скорее мягкая философская улыбка всем известного английского литературного героя (как тут не вспомнить, что родом великий градостроитель был как раз из Чешира!)
Теперь его с нами нет. Но улыбка осталась.
Иван Пауков – журналист и историк искусства
Высказанные в рубрике "Мнения" точки зрения могут не совпадать с точкой зрения редакции